 Реклама Google — средство выживания форумов :)
Реклама Google — средство выживания форумов :)
-
/60c9aa39a5b1t.jpg)
Трактир "Адмирал Бенбоу" [«курилка» или разговор обо всем понемногу….1]
Перенос из темы «ЗНАКОМИМСЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕМСЯ»Теги:
Джи-джи> Что касается личности Петра, то выскажу свое мнение.
Джи-джи> И сейчас я не могу сказать, что с уважением отношусь к этому историческому деятелю. Слишком много крови, даже для 18 века.
Алексей, разреши мне что-то тебе сообщить.
Не надо так судить.Вспомни историю РИ-СССР:реформаторов было не много-серьёзных: Иван Грозный, Пётр 1-й, Александр 2-й и Сталин.На досуге почитай Макиавелли "Государь". Ты ж не глупый-всё сам поймёшь. Как только Государь даст "слабины"- тут сразу и появится "передовая творческая ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ" с бомбой в руке или ЕЁ разновидность- демократы, либералы и прочая антигосударственная сволочь, нанятая "конкурентами" за 30 серебреников.А теперь прикинь-из четверых кто умер не в своей кровати? Умер тот , кто дал "слабины". Это закон и не я его придумал. Дедушка Дарвин был прав в одном- в этом мире выживает сильнейший. Кстати, по монархам Франции - та же история.Это я за товарищей Бурбонов.Последний, хреновый был король со своей М.-Антуанеттой(далее были не короли, а дерьмо- ни родины,ни флага).Умница-реформатор(почитай его проекты и указы).А чем они оба кончили? ГИЛЬОТИНОЙ!!!!Почему(?)-хотели же как лучше...а вышло? ...как всегда,УВЫ,решил монарх "немного гайки отпустить".И из этого получается два варианта- или крепкое государство,или то, что было в 80-е и 90-е годы в СНГ.Макиавелли "Государь"- схема универсальная- на все века и народы.Я высказал своё мнение.Наверно кому-то не понравится, но она (схема) работает и будет работать "до скончанья веков".
P.S. ВЛАСТЬ_ощущение "управления" в своих руках_величайший наркотик в мире. И не каждый с этим совладает, далеко не каждый.Совладает только Государь, понимающий, что "слишком много крови" не бывает.Или- или.
Джи-джи> И сейчас я не могу сказать, что с уважением отношусь к этому историческому деятелю. Слишком много крови, даже для 18 века.
Алексей, разреши мне что-то тебе сообщить.
Не надо так судить.Вспомни историю РИ-СССР:реформаторов было не много-серьёзных: Иван Грозный, Пётр 1-й, Александр 2-й и Сталин.На досуге почитай Макиавелли "Государь". Ты ж не глупый-всё сам поймёшь. Как только Государь даст "слабины"- тут сразу и появится "передовая творческая ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ" с бомбой в руке или ЕЁ разновидность- демократы, либералы и прочая антигосударственная сволочь, нанятая "конкурентами" за 30 серебреников.А теперь прикинь-из четверых кто умер не в своей кровати? Умер тот , кто дал "слабины". Это закон и не я его придумал. Дедушка Дарвин был прав в одном- в этом мире выживает сильнейший. Кстати, по монархам Франции - та же история.Это я за товарищей Бурбонов.Последний, хреновый был король со своей М.-Антуанеттой(далее были не короли, а дерьмо- ни родины,ни флага).Умница-реформатор(почитай его проекты и указы).А чем они оба кончили? ГИЛЬОТИНОЙ!!!!Почему(?)-хотели же как лучше...а вышло? ...как всегда,УВЫ,решил монарх "немного гайки отпустить".И из этого получается два варианта- или крепкое государство,или то, что было в 80-е и 90-е годы в СНГ.Макиавелли "Государь"- схема универсальная- на все века и народы.Я высказал своё мнение.Наверно кому-то не понравится, но она (схема) работает и будет работать "до скончанья веков".
P.S. ВЛАСТЬ_ощущение "управления" в своих руках_величайший наркотик в мире. И не каждый с этим совладает, далеко не каждый.Совладает только Государь, понимающий, что "слишком много крови" не бывает.Или- или.
В один ненастный день, в тоске нечеловечьей,
Не вынеся тягот, под скрежет якорей,
Мы всходим на корабль, и происходит встреча
Безмерности мечты с предельностью морей.

Не вынеся тягот, под скрежет якорей,
Мы всходим на корабль, и происходит встреча
Безмерности мечты с предельностью морей.


Это сообщение редактировалось 13.06.2009 в 05:48
Братцы, у нас все же несколько иной профиль форума! Если каждый начнет высказывать свое мнение по вопросам, не связанным с историей флота и судомоделизма, можем докатиться до крайне нежелательных слов, рассуждений и призывов. А это уже политика, чего нам делать вовсе не нужно!!! Поэтому, давайте охладим свои эмоции и вернемся на "грешную землю", я думаю, для всех так будет лучше!
Не старайся казаться лучше чем ты есть,но умей увидеть большое в малом!




IBeRUS> Братцы, у нас все же несколько иной профиль форума!
Так у нас же"обо всём понемногу" Высокое собрание посчитает мои строчки лишними и КЭПТЭН их уберет.Да и не собираюсь я навязывать своё мнение кому-либо.Я его просто выразил в рамках сложившегося мировозрения и без эмоций(восклицательный знак в предложении эмоциями не считаю) А спорить ,даже по делу-ерунда.
Высокое собрание посчитает мои строчки лишними и КЭПТЭН их уберет.Да и не собираюсь я навязывать своё мнение кому-либо.Я его просто выразил в рамках сложившегося мировозрения и без эмоций(восклицательный знак в предложении эмоциями не считаю) А спорить ,даже по делу-ерунда.
Так у нас же"обо всём понемногу"
 Высокое собрание посчитает мои строчки лишними и КЭПТЭН их уберет.Да и не собираюсь я навязывать своё мнение кому-либо.Я его просто выразил в рамках сложившегося мировозрения и без эмоций(восклицательный знак в предложении эмоциями не считаю) А спорить ,даже по делу-ерунда.
Высокое собрание посчитает мои строчки лишними и КЭПТЭН их уберет.Да и не собираюсь я навязывать своё мнение кому-либо.Я его просто выразил в рамках сложившегося мировозрения и без эмоций(восклицательный знак в предложении эмоциями не считаю) А спорить ,даже по делу-ерунда.
В один ненастный день, в тоске нечеловечьей,
Не вынеся тягот, под скрежет якорей,
Мы всходим на корабль, и происходит встреча
Безмерности мечты с предельностью морей.

Не вынеся тягот, под скрежет якорей,
Мы всходим на корабль, и происходит встреча
Безмерности мечты с предельностью морей.


AnAnAs
новичок
Просто смотрящий скрывающийся под эмблемой воров, убийц, насильников, черносотенцев и войс СС заботится о нашей нравственности...
Эта эмблема ничего общего (как корова и лощадь) не имеет с войсками СС, и даже с эмблемой немецких танкистов того периода, потрудитесь поучить историю и геральдику. А то у нас, как увидят череп с костями так сразу - СС. Так глядиш и православных схимников в каратели запишут. Прошу простить меня за вставку не по теме. Дремучесть персонажей иногда удивляет.
Эта эмблема ничего общего (как корова и лощадь) не имеет с войсками СС, и даже с эмблемой немецких танкистов того периода, потрудитесь поучить историю и геральдику. А то у нас, как увидят череп с костями так сразу - СС. Так глядиш и православных схимников в каратели запишут. Прошу простить меня за вставку не по теме. Дремучесть персонажей иногда удивляет.


kotbayun> Так у нас же"обо всём понемногу" 
Солидарен! Тем более и трактир именно для этого открывался. А разговор о царях и пр. начался с обсуждения даты Дня моделиста. Так что все в теме

Солидарен! Тем более и трактир именно для этого открывался. А разговор о царях и пр. начался с обсуждения даты Дня моделиста. Так что все в теме

Когда у нас появятся работники, которым достаточно просто заплатить?




M.Gotovchitz> Солидарен! Тем более и трактир именно для этого открывался. А разговор о царях и пр. начался с обсуждения даты Дня моделиста. Так что все в теме 
Пусть будет по-вашему,только не забывайте, что именно в трактирах и тавернах производился найм ничего не помнящих от пьянки моряков на самые паршивые рейсы, там же было известное количество шпиков и сексотов, доносивших "куды следовает" и там же сгинуло немерянное число свободомыслящих. А политика пьянит покрепче вина!

Пусть будет по-вашему,только не забывайте, что именно в трактирах и тавернах производился найм ничего не помнящих от пьянки моряков на самые паршивые рейсы, там же было известное количество шпиков и сексотов, доносивших "куды следовает" и там же сгинуло немерянное число свободомыслящих. А политика пьянит покрепче вина!
Не старайся казаться лучше чем ты есть,но умей увидеть большое в малом!




kotbayun> Не в обиду автору, но САМОЕ - САМОЕ, это фото DSC03728 НЕТ СЛОВ!!!!
А никаких обид.Автор то промеждупрочим гражданин России.Просто в Украине вид на жительство.И вообще то я присягал на верность всему союзу.:)) так что для меня страна едина от белого до черного,от балтики до берингова пролива.Сам родился под Владивостоком,а дед мой детдомовский из под одессы.Ну как,берете в свое буржуинство?:))
А никаких обид.Автор то промеждупрочим гражданин России.Просто в Украине вид на жительство.И вообще то я присягал на верность всему союзу.:)) так что для меня страна едина от белого до черного,от балтики до берингова пролива.Сам родился под Владивостоком,а дед мой детдомовский из под одессы.Ну как,берете в свое буржуинство?:))


kontrbizan> А никаких обид.
Алексей,я мож. перемудрил чуток.Фото с флагом лаконичное до безобразия.Просто у автора всегда есть свои любимые фото-за кот. и в огонь и в воду.А мне сразу это на глаз упало-АБАЛДЕТЬ.Других смыслов нет.Ждем продолжения.
Алексей,я мож. перемудрил чуток.Фото с флагом лаконичное до безобразия.Просто у автора всегда есть свои любимые фото-за кот. и в огонь и в воду.А мне сразу это на глаз упало-АБАЛДЕТЬ.Других смыслов нет.Ждем продолжения.
В один ненастный день, в тоске нечеловечьей,
Не вынеся тягот, под скрежет якорей,
Мы всходим на корабль, и происходит встреча
Безмерности мечты с предельностью морей.

Не вынеся тягот, под скрежет якорей,
Мы всходим на корабль, и происходит встреча
Безмерности мечты с предельностью морей.


M.Gotovchitz>> Солидарен! Тем более и трактир именно для этого открывался. А разговор о царях и пр. начался с обсуждения даты Дня моделиста. Так что все в теме 
IBeRUS> Пусть будет по-вашему,только не забывайте, что именно в трактирах и тавернах производился найм ничего не помнящих от пьянки моряков на самые паршивые рейсы, там же было известное количество шпиков и сексотов, доносивших "куды следовает" и там же сгинуло немерянное число свободомыслящих. А политика пьянит покрепче вина!
Эка вы махнули. То ж когда было. Сейчас все по другому.Англия не туманный альбион,на Фиджи не едят людей и Соломоновы острова не мекка акулья.Так что смело вперед.По кабакам и барам!! Как он мечтал- из океана вернуться на родной причал,веселый раненый и пьяный,о боже мой,как он мечтал.В портовом кабаке "Ривьера" в обьятьях гейшу задушить,вскричать-А ну,скрипач-халера,сыграй,я буду петь...

IBeRUS> Пусть будет по-вашему,только не забывайте, что именно в трактирах и тавернах производился найм ничего не помнящих от пьянки моряков на самые паршивые рейсы, там же было известное количество шпиков и сексотов, доносивших "куды следовает" и там же сгинуло немерянное число свободомыслящих. А политика пьянит покрепче вина!
Эка вы махнули. То ж когда было. Сейчас все по другому.Англия не туманный альбион,на Фиджи не едят людей и Соломоновы острова не мекка акулья.Так что смело вперед.По кабакам и барам!! Как он мечтал- из океана вернуться на родной причал,веселый раненый и пьяный,о боже мой,как он мечтал.В портовом кабаке "Ривьера" в обьятьях гейшу задушить,вскричать-А ну,скрипач-халера,сыграй,я буду петь...
Прикреплённые файлы:


Тут главное не перебрать,как на фото.И то потом поъехали полицейские и помогли доставить тело к трапу. Был неписаный закон-если пьяный моряк,возвращаясь,не дошел,но упал головой в сторону порта,то такого доставить на борт и утром опохмелить.Если же он найден лежащим в сторону города,то сечь по утру.Наш лежал как надо:))
Прикреплённые файлы:


kontrbizan> Наш лежал как надо:))
Памятка ревнителям нравственности: Не судите - да не судимы будете (из Св. Писания)
Памятка ревнителям нравственности: Не судите - да не судимы будете (из Св. Писания)
В один ненастный день, в тоске нечеловечьей,
Не вынеся тягот, под скрежет якорей,
Мы всходим на корабль, и происходит встреча
Безмерности мечты с предельностью морей.

Не вынеся тягот, под скрежет якорей,
Мы всходим на корабль, и происходит встреча
Безмерности мечты с предельностью морей.


kontrbizan> Тут главное не перебрать,как на фото.И то потом поъехали полицейские и помогли доставить тело к трапу. Был неписаный закон-если пьяный моряк,возвращаясь,не дошел,но упал головой в сторону порта,то такого доставить на борт и утром опохмелить.Если же он найден лежащим в сторону города,то сечь по утру.Наш лежал как надо:))
// russian-10-50.myriads.ru
Леонид Соболев
Рассказы капитана 2-го ранга В.Л.Кирдяги
КОГО СЧИТАТЬ ПЬЯНЫМ?
- Был у нас на крейсере гвардейского экипажу "Олег" старший офицер с
такой фамилией, что новобранцы хорошо если к рождеству Христову ее
заучивали, - старший лейтенант Монройо Феррайо ди Квесто Монтекули. Матросы
промеж себя его звали флотским присловьем: "Тое-мое, зюйд-вест и каменные
пули", а короче просто - "Тое-мое"...* Предок не то французских моряков, не
то итальянских, которые на службу Петру Первому подались. Так вот у него
своя теория была, какого матроса считать пьяным. Если матрос к отходящей
шлюпке своими ногами из города дошел, по трапу поднялся и хоть кой-как, но
фамилию и номер увольнительной жестянки доложил - он беспрепятственно мог
идти в кубрик. Более того, если Тое-мое сам при возвращении с берега
присутствовал, он еще и похвалит: "Молодец, - скажет, - сукин сын, меру
знаешь, иди отсыпаться"... Пьяным у него считались те, кого матросы к шлюпке
на руках принесут, на палубу из нее горденем подымут, как кули с мукой, и
потом на бак снесут. Там их, как дрова, на брезент складывали, чтобы палубу
не гадили.
______________Полагаю, что Василий Лукич что-то прибавил для блеска рассказа: такой
фамилии на флоте я не слышал. Были, скажем, де Кампо Сципион или
Моноре-Дюмон, Пантон-Фантон де Верайон, барон Гойнинген-Гюне или даже
Гогенлоэ-Шилонфюрст, кого матросы переиначили в "Голыноги, шилом хвист". Но
такой звучной фамилии в списках российского императорского флота не
значилось. - Л.С.
Разницу эту он сам установил и твердо соблюдал. Вот, скажем, был у нас
водолаз Парамонов, косая сажень в плечах и глотка - для питья
соответственная.
Взошел он на палубу, а его штормит - не дай бог: с борта на борт
кладет, того гляди - грохнется. Тое-мое вахтенному офицеру мигнул - мол, на
бак! А Парамонов, хоть чуть жив, разобрался. Вытянулся во фронт, стоит,
покачивается, будто грот-мачта в шторм, с амплитудой градусов в десять, и
вдруг старшому наперекор:
- А я, вашскородь, не пьяный. Я до шлюпки в тютельку дошел. И, ежели
желаете, даже фамилию вашу произнесу...
Мы так и ахнули: рванет он сейчас "Тое-мое, зюйд-вест и каменные
пули"!.. Ан нет: набрал в грудь воздуху и чешет:
- Старший лейтенант Монр... ройо... Ферр... райо... ди Квесто...
Монтеку... ку*... кули, во какая фамилия!
______________Тут Василий Лукич мастерски икнул. - Л.С.
Ну, думаем, будет сейчас мордобой, какого не видели! Так тоже нет!
Усмехнулся Тое-мое, полез в кошелек, вынул рубль серебряный и дает
Парамонову, а вахтенному офицеру:
- Запишите, - приказывает, - разрешаю внеочередное увольнение! - Потом
к остальным повернулся: - Глядите, - говорит, - вот это матрос! Не то что
вы, свиньи... - И пошел, и пошел каждому характеристику давать.
А с пьяными разборка у него утром бывала, перед подъемом флага. Придет
на бак, а они уже во фронте стоят и покачиваются. Вот он и начинает, говоря
по-нынешнему, проводить политработу.
- Ты что, впервые надрался? - спрашивает.
Матрос думает-думает, как лучше ответить, и скажет:
- Так точно, вашскородь, впервой. Никогда так не случалось.
- Ах, так! Впервой?.. Двадцать суток мерзавцу без берега, чтобы знал,
как пить!.. Ну, а ты?
Другой, понятно, учитывает ситуацию, с ходу рапортует:
- Простите, вашскородие, не сообразил. Пью-то я справно, а тут корешей
повстречал, будь им неладно, ну и не рассчитал... А то я завсегда своими
ногами дохожу, а чтобы горденем подымали, такой страм впервой случился, ваше
высокоблагородие, кореши это подвели...
Тое-мое, зюйд-вест бровками поиграет:
- Та-ак... Двадцать суток. Да не без берега, а строгого ареста! Пять -
на хлебе и воде!.. Я тебя научу, мерзавец: пить не умеешь, а хвастаешь!
Ну, это все времена давние-передавние, а ведь и в нашем-то
рабоче-крестьянском флоте я тоже кое-каких суффиксов по этой части
навидался.
Начать-то надо, пожалуй, сбоку. В двадцатых годах появилась у нас на
Балтийском флоте эпидемия: психи. Что это за явление? А вот что.
Читайте далее: СУФФИКС ВТОРОЙ
И т.д.
// russian-10-50.myriads.ru
Рассказы капитана 2-го ранга В.Л.Кирдяги
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Самый поразительный случай за годы моей политработы был, пожалуй, в
тысяча девятьсот двадцать втором году на учебном судне.
Вот много говорится об индивидуальном подходе к людям, что, мол, всех
под одну гребенку равнять нельзя и в воспитательной работе обязательно надо
учитывать особые свойства самого человека. Так вот, в первые годы моего
комиссарства я раз с отчаяния такой индивидуальный подход загнул, что теперь
вспомню - и сам удивляюсь.
Однако результаты оказались выше всех ожиданий, и сохранил я для
Красного флота одного очень ценного человека.
Был тогда у нас на учебном корабле вторым помощником командира Помпеи
Ефимович Карасев. Собственно, настоящее его имя было Помпий, но в
семнадцатом году, пользуясь гражданскими правами, он это имя во всех
документах переделал на Помпея и даже соответственно перенес день своего
ангела с седьмого июля на двадцать третье декабря. Пояснил он это тем, что
имя Помпий очень смахивает на пожарную помпу, чем при царском режиме ему
порядком надоедали корабельные шутники, а Помпей много благозвучнее и даже
имеет флотский оттенок, потому что, как услышал он это на лекции в
гельсингфорсском матросском клубе, некий римский воевода Помпей одержал
морскую победу, и следственно, тоже был военным моряком.
Должность второго помощника командира в те годы мало чем отличалась от
должности главного боцмана - как говорится, свайки, драйки, мушкеля, шлюпки,
тросы, шкентеля, - и поскольку боцман у нас, по мнению Помпея, был слабоват,
он сам круглые сутки катался по кораблю шариком на коротеньких своих ножках,
подмечал неполадки и "военно-морской кабак" и по поводу этого беспрерывно
извергал сквернословие, весьма, надо признаться, затейливое. Так же подавал
и команды на аврале: в команде, скажем, пять слов, а у него - пятнадцать, и
остальные десять все посторонние. Прямо удивляешься, откуда что берется...
Правда, плавал он к тому времени более двадцати лет и на этом же корабле с
девятьсот восьмого года в боцманах ходил. До того он к этому диалекту
привык, что иначе ни на какую тему говорить не мог, и раз я просто
поразился, в каких случаях он на нем изъясняется.
Заработался я как-то ночью, слышу восемь склянок, ну, думаю, Помпеи
Ефимович, наверное, уже на ногах, он позднее четырех утра на палубу не
выскакивал. А мне надо было ему сказать о покраске библиотеки. Ну, пошел я к
нему в каюту, - а каюта у него была своеобразная: на столе ни чернильницы,
ни бумажки, ни книжки, чистый стол, как шканцы, палуба вымыта и медяшка
грелки собственноручно надраена, а на грелке вечно чайник стоит. Пользовался
он каютой только для того, чтобы с полуночи до четырех и после обеда до
разводки на работы поспать и вечерком - часок чайку попить. Тогда стелил он
на письменный стол газетку, снимал с грелки чайник, где с утра чай парился,
скидывал китель, доставал из шкафа кружку и сахар - и наслаждался.
Приоткрываю я тихонько дверь, думаю, может, он еще спит, и вижу: стоит
он в исподних на коленках перед стулом - а на стуле крохотная иконка
(вероятно, в нерабочее для нее время она в шкафу вместе с сахаром лежала) -
и истово крестится. Вы скажете, мне бы следовало в это дело вмешаться, но к
этим пережиткам тоже надо было подход иметь, а тут человек скромно
отправляет культ в своей каюте, не мешая службе, агитацией религиозной не
занимается, - ладно, думаю, при случае воздействую осторожно.
Хотел уже дверь прикрыть, но донеслась тут до меня его молитва, я чуть
не фыркнул: увлекся мой Помпеи, меня не видит и причитает у иконки, да
как!.. В той же пропорции, что с командами - пять слов молитвы, а десять
посторонних. Жалуется богу на командира, что тот ему зря фитиль вставил за
беспорядок на вельботе, - и попутно как рванет командирскую бабушку в
тридцать три света, в иже херувимы, в загробные рыданья и пресвятую деву
Марию, и вслед за тем - молитву о смягчении сердца власть имущих, поминая
царя Давида и всю кротость его.
Ну, конечно, господу богу обращаться ко мне, как к комиссару корабля, с
претензиями на второго помощника было неудобно, и от него я жалоб не слышал.
А вот от комсомольцев мне за Помпея порядком приходилось. Особенно горячился
комсомольский отсекр Саша Грибов. Это был год первого комсомольского набора
на флот, и почти все ученики машинной школы, что у нас на корабле плавали,
недавно еще были комсомольскими работниками не ниже уездного масштаба, а
Помпеи их благословляет с утра до вечера. Конечно, обидно. На собраниях
шумят, ставят вопрос о списании Помпея с корабля как пережитка, словом, что
ни день, то к командиру - рапорт, а к комиссару - постановление
комсомольского бюро. Я Грибову объясняю:
- Товарищ дорогой, у нас военный флот, а не губернская конференция,
пора уж, в самом деле, привыкать. Вы бы лучше, чем шум подымать, помогли бы
мне - провели бы со своей стороны воспитательную работу над стариком. Народ
вы молодой, флота не знаете, учить вас морскому делу надо. А где мы другого
такого специалиста по шлюпкам, парусам, тросам и прочим премудростям найдем?
В учебниках не все написано, а в нем двадцатилетний опыт. Кто вас так научит
узлы вязать, краску составлять, фигурные маты плести?
- Да вот о матах-то я и толкую, - говорит Грибов, - он, товарищ
комиссар, не плести маты нас учит, а загибать их. Вы послушайте, как наши
комсомольцы в быту стали говорить: через два слова в треть - загиб. Думают,
это настоящий флотский шик и есть, а как их разубедишь, когда живой пример
перед глазами, тем более комсостав?
Ну, я вижу, вопрос перерастает в политическую плоскость - Помпеи и
впрямь у меня молодое пополнение портит. А на комсомольцев в те годы с
разных сторон влияли: жоржики, которых с флота еще не всех повыкидали,
татуировочку насаждают, блатной лиговский язык прививают, якобы флотский.
Иной раз слушаешь - передовой комсомолец, недавно еще где-либо у себя в
Калуге новый быт насаждал, - а тут из-под бескозырки чуб выпустит, клеш в
семьдесят два сантиметра закатит и говорит примерно так: "Чьто ж, братва,
супешнику счас навернем, с коробочки потопаем, прокинем нынче по Невскому,
бабца какого наколем - и закройсь в доску до понедельника". Я раз их собрал,
высмеял, а о "коробке" специально сказал. "Вы, - говорю, - на этом корабле в
бой за Советскую власть пойдете, на корабле живете, учитесь, а нужно - и
умирать будете, а вы такое гордое слово - корабль - в "коробку" унизили". И
рассказал им попутно, как русские матросы в старое время и в гражданской
войне кораблем своим гордились и сами с ним на дно шли, как в Новороссийске
над этими "коробками" тяжелыми мужскими слезами плакали, когда их топить
пришлось... Ну, дошло это до комсомольского сердца, и слово "коробка" у нас
действительно исчезло, а прочий лиговский язык никакой борьбы не выдерживал.
А тут еще Помпеи мат культивирует, борьба на два фронта получается...
Вызвал я его к себе в каюту, посадил в кресло и начал проводить
политработу:
- Так и так, Помпеи Ефимович, грубая брань унижает не того, в кого она
направлена, а того, кто ее произносит. Это, - говорю, - в царском флоте было
развито как неуважение к личности трудящегося, а в наших условиях на
матерщинника смотрят как на некультурный элемент. Словом, чтобы не
действовать административно, я вам не предлагаю в порядке приказа изжить
матерную брань, а говорю по-хорошему: будьте сознательны, бросьте это дело.
Говорю, а сам вижу - слова мои в него, как в стенку, ни до души, ни до
сознания не доходят: сидит мой Помпеи, красный, потный, видимо, мучается, да
и побаивается - для него комиссар страшнее командира. Нет, думаю, не тот у
меня подход, надо эти лозунги бросить. Я на другой галс лег - объясняю
попросту, задушевным тоном: молодежь, мол, теперь иная, это не серые
новобранцы с деревни, а комсомольцы, у каждого своя гордость, и им обидно.
Это нам с вами, говорю, старым морякам, как с гуся вода, - покроют, - и не
встряхнешься. А им внове, надо же понимать.
Слушал, слушал Помпеи Ефимович, потом на меня глазки поднял, - а они у
него такие маленькие были, быстрые и с большой хитринкой.
- Так, товарищ же комиссар, они приобыквут! Многие уже теперь понимают,
что я не в обиду и что никакого неуважения их личности не выказываю.
Наоборот, иной сам чувствует, что это ему в поощрение или в пояснение. И
работать веселей, а то все швабры да щетки, чистоль да тросы изо дня в день
- прискучает. Опять же, скажем, терминология: эти самые ваши комсомольцы по
ночам морскими терминами бредят, комингсы им разные снятся да штаг-корнаки.
А я каждому предмету название переиначу позабавнее или рифму подберу, вот
оно легче и запоминается.
- Вот вы, - говорю, - и напереиначили так, что теперь в кубрик не
войдешь: сплошные рифмы висят - и речи человеческой не слышно.
А он на меня опять с хитринкой смотрит:
- Так что ж, товарищ комиссар, на корабле дамского общества, слава
богу, нет, самый морской разговор получается, и беды я в том не вижу. Ну,
если б я, скажем, дрался или там цепкой по спине протягивал, как царские
боцмана себе позволяли, тогда ваши возражения были бы понятны. А тут - чего
же особенного?
- Ну, - говорю, - Помпеи Ефимович, уж коли бы вы еще допускали зубы,
чистить, тогда у нас и разговор с вами был бы иной. Мы бы с вами не в каюте,
а в трибунале договорились.
А он смутился и сейчас же отбой:
- Да нет, знаете, я этой привычки и в царском флоте не одобрял, и
теперь не сочувствую. Потому что она увечье дает, кроме того, действительно
обидна для человека, потому что старшему в чине сдачи не дашь. А главное -
никакой от нее пользы для дела, и не всегда дотянешься... Хотя, впрочем, раз
довелось мне видеть, что и такая привычка обернулась во спасение жизни
человеку.
Ну, я примечаю, что у Помпея случай на языке чешется. Я и придрался,
чтоб дать ему разговориться и свободнее себя со мной чувствовать, потому что
дело такое, что официальным подходом не разрешишь, а он сидит на кончике
стула, стесняется, и душевного разговора в такой обстановке не добьешься.
- Как же, - говорю, - так в спасение жизни? Это странно... Может,
поделитесь? Я до подобных историй очень большой охотник. Сейчас я чайку
налажу, вот за чайком и расскажете.
- Нет, - говорит, - спасибо, чайку я вашего не буду. Я знаю - у вас не
чай, а верблюжья моча... то есть я хотел выразиться, что жидкий... Я чай
привык своего настою пить. А вот за папироской расскажу.
Закурили мы, он и рассказывает:
"Я тогда без малого пешком под стол ходил. Плавал в Белом море на такой
посудине, называется "Мария Магдалина". Рейс незавидный: по весне поморов на
промысла развозить, а по осени обратно их в жилые места собирать. Вот
осенние рейсы и мучили, беспокойно очень: у них привычка была - как
напьются, так в спор. Ножи там или топорики - это у них отбиралось, но,
бывало, и кулаком вышибали дух. Это тоже из терпения выводило: на каждого
покойника акт надо и в трех экземплярах. А писал акты первый помощник, очень
не любил писать, непривычное дело.
На них одна управа была - кран. Это капитан придумал, точное средство
было: как драка, так обоих ухватить, животом на лямки, которые лошадей
грузят, - и на краны поднять. У нас два таких крана было, аккурат у мостика.
Болтаются оба, покручивает их, раскачивает, и самолюбием страдают, потому
остальные на них ржут: очень смешные рожи корчили. А на втором часе скучать
начинали. Говорят, печенку выдавливает и в голове кружение. Повернет его
лицом к мостику, - "смилуйтесь, - кричит, - ваше степенство, ни в жисть не
позволю ничего такого!" А капитан твердый был, Игнат Саввич звали. "Виси, -
говорит, - сукин кот, пока всю мечту из головы не выкинешь". Очень они этого
крана боялись.
Вот идем мы как-то, стою я на штурвале и смотрю на бак. А там у двоих
спор вышел, о чем - это не поймешь: они, может, еще в мае месяце спорить
начали. Стоят, плечиками друг в друга уперлись и спорят. "Не веришь,
окаянная душа?" - "Не верю, - говорит, - не бывает такой рыбы". - "Не
веришь?" - "Не верю". - "А по зубам съезжу, поверишь?" - "Все одно не
поверю". Размахнулся тот и ударил. Удивительно мне показалось - такой
ледащий поморишка, а сила какая, значит, правота в нем от самой души
поднялась, - тот так и покатился. Поднялся, утер кровь. "Обратно, - говорит,
- не верю: нет такой рыбы и не могло быть".
Тут капитан им пальчиком погрозил: "Эй, - говорит, - такие-сякие,
поаккуратнее там! Будете у меня на кранах болтаться, как сыры голландские!"
Притихли они, главный спорщик шапку скинул. "Не утруждайтесь, - говорит, -
ваше степенство, это у нас просто разговор промеж себя, а безобразия мы
никакого не позволим". Вижу, замирились будто, еще по стаканчику налили, а я
на воду глаза отвел, вода - что масло, штиль был. Потом слышу - обратно на
баке шум. Стоят эти двое у самого борта, и ледащий опять наседает: "Не
веришь, - говорит, - так тебя распротак?" - "Не верю". - "Хочешь, в воду
прыгну?" - "Да прыгай, - говорит, - все одно не поверю". Не успел Игнат
Саввич матроса кликнуть, как тот на планшир вскочил, и в лице прямо
исступление. "Я, - кричит, - за свои слова жизни решусь! Говори, подлец, в
остатний раз спрашиваю: не веришь?" - "Не, не верю". - "Так на ж тебе, сукин
сын!" - и прыг в воду. А тот перегнулся за борт и кричит: "Все одно не
поверю, хоть тони; нет такой рыбы и не могло быть!"
Ну, пока пароход останавливали, пока шлюпку спускали, Игнат Саввич ему
разными словами дух поддерживал. Но так неудачно с ним получилось, даже
обидно: уши в воде были, не слыхал ничего, видимо. Очень он неловко в воде
был: руки, ноги свесил в воду, и голову тоже, а по-над водой один зад
маячит. Жиру у него в этом месте больше было или просто голова перевесила,
это уж я не скажу, но так и плавал задом наружу, пока шлюпка не подгребла.
Так за зад и вытащили. Подняли его на борт - не дышит, а из норок с носу
вода идет.
Потолковали мы между собой. Качать, говорят, надо, много ли он в воде
был - минут десять всего. Сперва наши матросы качали. Качали, качали и
плюнули. "Кончился, - говорят, - да и не наше вовсе дело пассажиров
откачивать". Тогда поморы взялись. Пошла из него вода пополам со спиртом, но
на ощупь все же недвижимое имущество.
Игнат Саввич сошел с мостика, веки приоткрыл, сердце послушал. "Акт, -
говорит, - составить, вовсе помер, будь он неладен", - и послал меня за
помощником. А тот спал, и так обидно ему показалось, что снова акт, что он в
меня сапогом пустил. Однако вышел, пришел на бак, сам злой до того, что
серый весь стал. Осмотрели карманы, - а известно, что в поморских карманах?
Дрянь всякая, кисет да трубка, крючок там какой-то да деньги в портянке, а
документа вовсе нет. Подумал помощник. "Подымите, - говорит, - его в стоячку
да под локотки поддерживайте, опознавать будем. Подходи по одному!" Стали
пассажиры подходить, помощник каждого спрашивает: "Как ему по фамилии?"
Почешется, почешется помор: "Кто его знает? Божий человек. Нам ни к чему".
Который с ним спорился - того спросили. Трясется весь, говорит: "А пес его
знает. Упористый был покойничек, это верно. А по фамилии не знаю".
Помощник как туча стал. И так это ему обидно показалось - и разбудили,
и акт в трех экземплярах, и по фамилии неизвестно. Смотрел, смотрел на
утопленника - и лицом даже покривился. "Бога, - говорит, - в тебе нет, сукин
ты сын. Ну, откуда я твое фамилие-имя-отчество рожу?" - да с последним
словом от всей своей обиды как двинет утопленника в скулу - так два зуба
враз и вылетели. А с зубами вместе, обратите внимание, и остатняя вода, что
в горле стояла и дышать мешала. Открыл покойник глаза и пошатнулся. Дошел до
своего мешка, приткнулся головой и уснул. Видимо, утомился очень. После
помощник ему весь свой спирт даром отдал, очень обрадовался, что тот его от
акта выручил.
Но это только раз за всю мою жизнь я и видел, чтоб от битья польза
была. А от соленых слов, наоборот, никогда вреда не бывает".
Посмеялся я над его рассказом, сам ему тоже для установления отношений
кой-какую историйку рассказал, - вижу, перестал Помпеи меня бояться. Я опять
его по душам убеждаю: так и сяк, ликвидируйте вы эту свою привычку, вам на
корабле и цены не будет. Бросают же люди курить - и ничего.
А он на меня опять с хитринкой смотрит и говорит:
- Это смотря сколько той привычке лет. Мне, товарищ комиссар, пятый
десяток идет, это не жук плюнул. Были мы в девятьсот двенадцатом в Бомбее,
так там, как из порта выйти - налево, у ихнего храма, факир на столбу стоял
и не присаживался, а продовольствовался чашкой риса в день. Англичане
косились, косились, - сняли со столба, положили в койку на самолучших
пружинах и обедом накормили. Заскучал факир и погас, как свечка. А всего
пять лет стоял, пять лет привычки имел. А я двадцать лет привычку имею,
легко не отвыкнешь. Вы мне лучше определите срок, я чего-нибудь сам
придумаю. И притом вопрос: как это - совсем отвыкать или только от
полупочтенных слов? Скажем, безобидные присловья допускаются?
- Отвыкайте, - говорю, - лучше сразу совсем. А безобидные пусть у вас в
резерве будут, когда вас прорвет, тогда их и пускайте.
Договорились. И началась новая эпоха: и точно, нормальной, скажем,
брани больше от Помпея Ефимовича никто не слышит. Но как-то так он сумел и
обыкновенные слова поворачивать, что слушаешь его - в отдельности будто все
слова пристойные, каждое печатать можно, - а в целом и по смыслу - сплошная
матерщина. Меня даже любопытство взяло. Постоял я раз на одном аврале -
шлюпки подымали, - послушал внимательно и понял его приемчик. Он весь этот
свой синтаксис - в тридцать три света, да в мутный глаз, да в Сибирь на
каторгу, в печенку, в селезенку - в речи оставил, и хоть прямых
непечатностей нет, но до того прозрачный смысл получается, хоть святых вон
выноси. Да вслушиваюсь, - он еще какие-то иностранные слова вставляет, так и
пестрит все ими. После я дознался: оказывается, он два вечера к старшему
врачу ходил, все полупочтенные слова у него по-латыни раздобыл, на бумажку
списал - и без запинки ими пользуется. Комсомольцы прямо вой подняли. "Что
же, - говорят, - товарищ комиссар, еще хуже стало! Раньше, бывало, поймешь,
хоть фыркнешь, а теперь покроет по-латыни - и вовсе не разберешь, что к
чему!.."
Тут я рассердился, зову его опять в каюту и очень строго ему говорю:
- Вы, - говорю, - меня обманули, иначе говоря, взяли на пушку. Чтоб
никаких слов - латинских ли, французских ли - я более от вас не слыхал,
понятно? И объясните вы мне, за-ради бога, Помпеи Ефимович: балуетесь ли вы
из упрямства, или в самом деле такая в вас устойчивая идеология, будто на
корабле без матерей не обойтись, хотя бы и иностранного происхождения?
Вздохнул Помпеи Ефимович, смотрит на меня с отвагой отчаяния:
- По правде говорить, товарищ комиссар?
- Конечно, по правде, мы оба не маленькие.
- Ну, коли по правде, то идеология. И поскольку вы ставите вопрос не на
принципиальное ребро, а по совести, позвольте с вами говорить не как с
комиссаром корабля, а как с балтийским матросом. Тем более, вы какого года
призыва?
- Девятьсот двенадцатого, - говорю.
- Ну вот. А я - девятисотого и в двенадцатом году уже четвертую
кампанию в боцманах ходил, так что вы передо мной вроде, извините, как
салажонок. Но раз вы все-таки настоящую флотскую службу захватили, то вполне
должны понимать, что с морем без соленого слова никак не выйдет. Оно его
любит, море-то. Раз человек лается, значит, у него в душе еще отвага и он
непреклонен. Вот, скажем, на шлюпке идешь, два рифа взял, а волна... (тут он
сказал, какая волна) - словом, упаси бог. Прикроет она шлюпку,
сидишь-сидишь, и дыхание испортилось, а вода все на тебе одеялом. Послабже
человек или кто с новобранства не обучен - тот взмолится. Ну и пропал. А как
загнешь в три переверта с гаком из последнего дыхания - изо рта пузыри
пойдут, а в каждом пузырьке соленое слово. В самую его мокрую душу угадаешь,
моря-то. А душа у моря хмурая, серьезная - ее развеселить надо... Волна и
отступит - значит, мол, жив еще человек, коль так лается.
- Ну, - отвечаю, - Помпеи Ефимович, это какая-то мистика или
художественный образ. Вы же кроете не стихию, а нормальных живых людей! А у
них своя психика.
- Могу и насчет людей пояснить. Вот, скажем, увидишь, как настоящий
марсофлот в шторм за бортом конец ловит, того и гляди, сорвется - как тут в
восхищение не прийти? От восхищения и загнешь, и тому за бортом лестно:
значит, от души его смелость оценили. Или, скажем, бодрость духа. Ее соленые
слова, знаете, на какую высоту подымают? Вот упал человек за борт, ошалел,
пока шлюпка дойдет, у него все гайки отдадутся. А пошлешь ему с борта
что-нибудь необычное да повеселее, смотришь, и спас человека: поверху
плавает и сам ругается для бодрости. Или на скучной работе: дерет, дерет
человек кирпичом палубу, опротивело ему, думает - скорей бы второй помощник
пробежал, может, отчудит чего посмешнее. А я тут как тут - там подбодришь
кого, тут кого высмеешь, здесь этак с ходу веселое словечко кинешь, -
обежишь корабль, вернешься, а они прямо искры из настила кирпичом высекают,
крутят головами и посмеиваются. Или растерялся матрос, не за то хватается,
того гляди, ему пальцы в канифас-блок втянет, - чем его в чувство привести?
Опять-таки посторонним воздействием. Очень много могу привести вам примеров,
когда плотный загиб пользу приносит. Только во всех этих случаях, обратите
внимание, обычная брань не поможет. Я и сам против тех, кто три слова
сызмальства заладил и так ими и орудует до седых волос. Слова и соленые
приедаются, а действовать на психику надо неожиданностью и новизной оборота.
Для этого же надо в себе эту способность развивать постоянной тренировкой и
другим это искусство передавать.
Выслушал я его и резюмирую:
- Да, это развернутая идеология. Целая теория у вас получается. Только
она, - говорю, - для Красного флота никак не подходит.
А он уже серьезно и даже с печалью говорит:
- Я и сам вижу, что не подходит. И потому прошу вас ходатайствовать
перед высшим командованием Об увольнении меня в бессрочный отпуск... Вы же
мне все пути отрезаете и даже не допускаете замены безобидным присловьем
или, скажем, иностранного происхождения. Мне это крайне тяжело, потому что с
флотом я за двадцать лет свыкся и на берегу буду болтаться, как бревно в
проруби, без всякого применения. Но решать, видимо, следует именно так.
У меня прямо сердце переворачивается. Вижу, Помпеи наш в самом деле
ничего С собой сделать не может, раз решается сам об увольнении просить. А
отпускать его страсть не хочется. Ах ты, думаю, будь оно неладно! И лишаться
такого марсофлота прямо преступно для новых кадров, и оставить нельзя - куда
же его, к черту, с такой идеологией? А он продолжает:
- Главное дело, я чувствую, что, коли б не это наше расхождение мнений,
от меня флоту большая польза была бы. Я тут среди ваших комсомольцев
присмотрел людей вполне подходящих, дали б мне волю, я бы из них настоящих
матросов сделал, только своим, конечно, способом. Но раз Советская власть
такого разговора на палубе не одобряет, я прямо тебе скажу, Василий Лукич,
как матрос матросу: против Советской власти я не пойду. Вот и приходится
корабль бросать.
Вдруг меня будто осенило.
- Это, - говорю, - ты правильно сказал: Советская власть такого
разговору не одобряет. И я вот тебе тоже как матрос матросу признаюсь: я
ведь - что греха таить? - сам люблю этажей семь построить при случае. Но
приходится сдерживаться. Стоишь, смотришь на какой-либо кабак, а самого так
и подмывает пустить в господа бога и весь царствующий дом, вдоль и поперек с
присвистом через семь гробов в центр мирового равновесия...
Конечно, сказал я тогда не так, как вам передаю, а несколько
покрасочнее, но все же вполсилы. Пустил такое заклятье, вроде как
пристрелочный залп, - эге, вижу, кажется, с первого залпа у меня накрытие:
подтянулся мой Помпей, уши навострил, и в глазах уважение:
- Плотно, Василий Лукич, выражаешься, приятно слушать.
Так, думаю, правильный подход нащупал. А сам рукой махнул и огорчение
изображаю:
- Ну, мол, это пустяк. Вот в гражданской я действительно мог: бывало,
как зальюсь - восемь минут и ни одного повтора. Ребята заслушивались. А
теперь практики нет, про себя приговариваешь, а в воздух слов не выпускаешь.
Помпеи на меня недоверчиво так посмотрел:
- Заливаешь, Василий Лукич, хоть и старый матрос. Восемь минут! У нас
на "Богатыре" на что боцман ругатель был, а и то на шестой минуте
повторяться начинал.
- Нет, - говорю, - восемь. Не веришь? - Не верю.
- Не веришь?
- Нет, - мотает головой. - Я свое время не считал, но так полагаю, что
и мне восьми минут не вытянуть.
- Ну, - говорю, - восьми, может, и я сейчас не вытяну, отвык без
практики, но тебя все-таки перекрою.
Смеется Помпеи, а мне только того и надо.
- Не срамись, - говорит, - лучше, Василий Лукич! Вот с "Богатыря"
боцман меня бы перекрыл, а боле никого я на флотах не вижу.
- Ах, так, - говорю и вынимаю из кителя часы. - Давай спориться!
Только, чур, об заклад: коли ты меня перекроешь, дозволю тебе в полный голос
по палубе разговаривать. А я перекрою - тогда уж извини: чтоб никаких слов
никто от тебя боле не слышал: ни я, ни военморы, ни вольнонаемные.
Он на меня смотрит и, видимо, не верит:
- Ты что, комиссар, всерьез?
А я китель расстегнул, кулаком по столу ударил, делаю вид, что страшно
разгорячился.
- Какие могут быть шутки! Ты мне самолюбие задел, а я человек горячий.
Принимаешь заклад или боишься?
- Я боюсь?.. Принимаю заклад! Посмотрим!
Хлопнули мы по рукам, стали договариваться. Он выставил вопрос о судье
- кого позвать - и предложил старшего помощника: он, говорит, хоть нынче
остерегается по тем же обстоятельствам, но разбирается в этом деле вполне. Я
судье отвод - неловко, мол, мне, как комиссару, такие арии перед
комсоставом, и какой вопрос может быть о судье, если два балтийских матроса
на совесть спорятся?
Тогда с его стороны еще затруднение:
- Неправильно получается: как же так, с бухты-барахты? Кого же крыть и
по какой причине? Сам понимаешь, для этого дела надо ведь в запал прийти.
- Меня, - говорю, - крой, что я тебе жизнь порчу. А я послушаю,
наверное, сам с того обозлюсь. Начали, что ли?
- Пускай, - говорит, - секундомер с первым залпом!
Поправился в кресле - и дал первый залп.
Ну, я прислушиваюсь. Все в порядочке: начал он, как положено, с
большого загиба Петра Великого, все боцмана так начинали. Потом на мою родню
навалился. Всех перебрал до седьмого колена, про каждую прабабку
характеристику сказал, и все новое, и на другой галс повернул, - меня самого
в работу взял, а я вижу - одна тактическая ошибка у него есть. Третья минута
пошла, а он все мной занимается: и рында-буленем, и фор-брамстеньгой, и в
разные узлы меня завязывает, и каждой моей косточке присловье нашел, и все в
рифму - заслушаешься. Отработал он этот участок - на небеса перекинулся,
стал господа бога и приснодеву Марию тревожить, как будто и не он это на
коленках перед стулом стоит. Кроет в двенадцать апостолов, в сорок
мучеников, во всех святых, - а я опять на карандаш беру: еще одну
тактическую ошибку мой Помпеи допустил, вижу - у меня фору добрая минута
будет. Потом вновь на землю спустился, начал чины перебирать, от боцманмата
до генерал-адмирала и управляющего морским министерством. Словом, шестая
минута пошла, и он, вижу, начинает ход сбавлять, вот-вот заштилеет.
Посматривает на часы и пальцем тычет - сколько, мол, там?
- Шесть, - говорю, - крой дальше, Помпеи Ефимович.
Тут он опять ветер забрал, понесся: новую жилу нашел - все звериное
царство на моих родственников напустил: и медведей, и верблюдов, и крыс, и
перепончатых стрекоз. Этого ему еще на минуту хватило, но, вижу, в глазах у
него растерянность, и рифм уже меньше, и неожиданностей не хватает. Потом
слышу - опять митрополита санктпетербургского и ладожского помянул.
- Стоп, - говорю и секундомер нажал. - Было уже про митрополита.
Он осекся, замолк, дух переводит, на меня смотрит.
- Было, - говорю, - было, Помпеи Ефимович. Ты его еще с динамитом
срифмовал и обер-церемониймейстером переложил, верно?
- Правильно, - сознается, - было. Сколько там вышло?
- Восемь минут семнадцать секунд. Перекрыл ты богатырского боцмана.
Ну-ка, я рюриковскую честь поддержу. Бери часы.
Ну, набрал я воздуху в грудь и начал.
Если б вам все это повторить, многих из вас тут же бы до жвакагалса
стравило. Потому что я все свои знания в этой области мобилизовал и все силы
напряг, ибо ставка была уж очень большая: нужный для флота человек.
Прошел я по традиции и для времени петровский загиб, нажимаю дальше, аж
весла гнутся, а на ходу все его тактические ошибки в свою пользу учитываю.
Одна, что он двенадцать апостолов в кучу свалил, - а я каждого по
отдельности к делу приспособил. Также и сорок мучеников, кого сумел
припомнить, в розницу обработал. А у них имена звучные, длинные - как
завернешь в присноблаженного и непорочного святого Августина или в святых
отец наших Сергия и Германа, валаамских чудотворцев - глядишь, пять секунд
на каждом и натянешь. Друга
Рассказы капитана 2-го ранга В.Л.Кирдяги * КОГО СЧИТАТЬ ПЬЯНЫМ? / Соболев, Леонид // Мириады
КОГО СЧИТАТЬ ПЬЯНЫМ? - Был у нас на крейсере гвардейского экипажу "Олег" старший офицер с такой фами...двадцатых годах появилась у нас на Балтийском флоте эпидемия: психи. Что это за явление? А вот что.// russian-10-50.myriads.ru
Леонид Соболев
Рассказы капитана 2-го ранга В.Л.Кирдяги
КОГО СЧИТАТЬ ПЬЯНЫМ?
- Был у нас на крейсере гвардейского экипажу "Олег" старший офицер с
такой фамилией, что новобранцы хорошо если к рождеству Христову ее
заучивали, - старший лейтенант Монройо Феррайо ди Квесто Монтекули. Матросы
промеж себя его звали флотским присловьем: "Тое-мое, зюйд-вест и каменные
пули", а короче просто - "Тое-мое"...* Предок не то французских моряков, не
то итальянских, которые на службу Петру Первому подались. Так вот у него
своя теория была, какого матроса считать пьяным. Если матрос к отходящей
шлюпке своими ногами из города дошел, по трапу поднялся и хоть кой-как, но
фамилию и номер увольнительной жестянки доложил - он беспрепятственно мог
идти в кубрик. Более того, если Тое-мое сам при возвращении с берега
присутствовал, он еще и похвалит: "Молодец, - скажет, - сукин сын, меру
знаешь, иди отсыпаться"... Пьяным у него считались те, кого матросы к шлюпке
на руках принесут, на палубу из нее горденем подымут, как кули с мукой, и
потом на бак снесут. Там их, как дрова, на брезент складывали, чтобы палубу
не гадили.
______________
Моноре-Дюмон, Пантон-Фантон де Верайон, барон Гойнинген-Гюне или даже
Гогенлоэ-Шилонфюрст, кого матросы переиначили в "Голыноги, шилом хвист". Но
такой звучной фамилии в списках российского императорского флота не
значилось. - Л.С.
Разницу эту он сам установил и твердо соблюдал. Вот, скажем, был у нас
водолаз Парамонов, косая сажень в плечах и глотка - для питья
соответственная.
Взошел он на палубу, а его штормит - не дай бог: с борта на борт
кладет, того гляди - грохнется. Тое-мое вахтенному офицеру мигнул - мол, на
бак! А Парамонов, хоть чуть жив, разобрался. Вытянулся во фронт, стоит,
покачивается, будто грот-мачта в шторм, с амплитудой градусов в десять, и
вдруг старшому наперекор:
- А я, вашскородь, не пьяный. Я до шлюпки в тютельку дошел. И, ежели
желаете, даже фамилию вашу произнесу...
Мы так и ахнули: рванет он сейчас "Тое-мое, зюйд-вест и каменные
пули"!.. Ан нет: набрал в грудь воздуху и чешет:
- Старший лейтенант Монр... ройо... Ферр... райо... ди Квесто...
Монтеку... ку*... кули, во какая фамилия!
______________
Усмехнулся Тое-мое, полез в кошелек, вынул рубль серебряный и дает
Парамонову, а вахтенному офицеру:
- Запишите, - приказывает, - разрешаю внеочередное увольнение! - Потом
к остальным повернулся: - Глядите, - говорит, - вот это матрос! Не то что
вы, свиньи... - И пошел, и пошел каждому характеристику давать.
А с пьяными разборка у него утром бывала, перед подъемом флага. Придет
на бак, а они уже во фронте стоят и покачиваются. Вот он и начинает, говоря
по-нынешнему, проводить политработу.
- Ты что, впервые надрался? - спрашивает.
Матрос думает-думает, как лучше ответить, и скажет:
- Так точно, вашскородь, впервой. Никогда так не случалось.
- Ах, так! Впервой?.. Двадцать суток мерзавцу без берега, чтобы знал,
как пить!.. Ну, а ты?
Другой, понятно, учитывает ситуацию, с ходу рапортует:
- Простите, вашскородие, не сообразил. Пью-то я справно, а тут корешей
повстречал, будь им неладно, ну и не рассчитал... А то я завсегда своими
ногами дохожу, а чтобы горденем подымали, такой страм впервой случился, ваше
высокоблагородие, кореши это подвели...
Тое-мое, зюйд-вест бровками поиграет:
- Та-ак... Двадцать суток. Да не без берега, а строгого ареста! Пять -
на хлебе и воде!.. Я тебя научу, мерзавец: пить не умеешь, а хвастаешь!
Ну, это все времена давние-передавние, а ведь и в нашем-то
рабоче-крестьянском флоте я тоже кое-каких суффиксов по этой части
навидался.
Начать-то надо, пожалуй, сбоку. В двадцатых годах появилась у нас на
Балтийском флоте эпидемия: психи. Что это за явление? А вот что.
Читайте далее: СУФФИКС ВТОРОЙ
И т.д.
Рассказы капитана 2-го ранга В.Л.Кирдяги * ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД / Соболев, Леонид // Мириады
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД Самый поразительный случай за годы моей политработы был, пожалуй, в тысяча дев...гробные рыданья, всегда животворяще господа, не свернул. С трудом я эту заразу в себе ликвидировал.// russian-10-50.myriads.ru
Рассказы капитана 2-го ранга В.Л.Кирдяги
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Самый поразительный случай за годы моей политработы был, пожалуй, в
тысяча девятьсот двадцать втором году на учебном судне.
Вот много говорится об индивидуальном подходе к людям, что, мол, всех
под одну гребенку равнять нельзя и в воспитательной работе обязательно надо
учитывать особые свойства самого человека. Так вот, в первые годы моего
комиссарства я раз с отчаяния такой индивидуальный подход загнул, что теперь
вспомню - и сам удивляюсь.
Однако результаты оказались выше всех ожиданий, и сохранил я для
Красного флота одного очень ценного человека.
Был тогда у нас на учебном корабле вторым помощником командира Помпеи
Ефимович Карасев. Собственно, настоящее его имя было Помпий, но в
семнадцатом году, пользуясь гражданскими правами, он это имя во всех
документах переделал на Помпея и даже соответственно перенес день своего
ангела с седьмого июля на двадцать третье декабря. Пояснил он это тем, что
имя Помпий очень смахивает на пожарную помпу, чем при царском режиме ему
порядком надоедали корабельные шутники, а Помпей много благозвучнее и даже
имеет флотский оттенок, потому что, как услышал он это на лекции в
гельсингфорсском матросском клубе, некий римский воевода Помпей одержал
морскую победу, и следственно, тоже был военным моряком.
Должность второго помощника командира в те годы мало чем отличалась от
должности главного боцмана - как говорится, свайки, драйки, мушкеля, шлюпки,
тросы, шкентеля, - и поскольку боцман у нас, по мнению Помпея, был слабоват,
он сам круглые сутки катался по кораблю шариком на коротеньких своих ножках,
подмечал неполадки и "военно-морской кабак" и по поводу этого беспрерывно
извергал сквернословие, весьма, надо признаться, затейливое. Так же подавал
и команды на аврале: в команде, скажем, пять слов, а у него - пятнадцать, и
остальные десять все посторонние. Прямо удивляешься, откуда что берется...
Правда, плавал он к тому времени более двадцати лет и на этом же корабле с
девятьсот восьмого года в боцманах ходил. До того он к этому диалекту
привык, что иначе ни на какую тему говорить не мог, и раз я просто
поразился, в каких случаях он на нем изъясняется.
Заработался я как-то ночью, слышу восемь склянок, ну, думаю, Помпеи
Ефимович, наверное, уже на ногах, он позднее четырех утра на палубу не
выскакивал. А мне надо было ему сказать о покраске библиотеки. Ну, пошел я к
нему в каюту, - а каюта у него была своеобразная: на столе ни чернильницы,
ни бумажки, ни книжки, чистый стол, как шканцы, палуба вымыта и медяшка
грелки собственноручно надраена, а на грелке вечно чайник стоит. Пользовался
он каютой только для того, чтобы с полуночи до четырех и после обеда до
разводки на работы поспать и вечерком - часок чайку попить. Тогда стелил он
на письменный стол газетку, снимал с грелки чайник, где с утра чай парился,
скидывал китель, доставал из шкафа кружку и сахар - и наслаждался.
Приоткрываю я тихонько дверь, думаю, может, он еще спит, и вижу: стоит
он в исподних на коленках перед стулом - а на стуле крохотная иконка
(вероятно, в нерабочее для нее время она в шкафу вместе с сахаром лежала) -
и истово крестится. Вы скажете, мне бы следовало в это дело вмешаться, но к
этим пережиткам тоже надо было подход иметь, а тут человек скромно
отправляет культ в своей каюте, не мешая службе, агитацией религиозной не
занимается, - ладно, думаю, при случае воздействую осторожно.
Хотел уже дверь прикрыть, но донеслась тут до меня его молитва, я чуть
не фыркнул: увлекся мой Помпеи, меня не видит и причитает у иконки, да
как!.. В той же пропорции, что с командами - пять слов молитвы, а десять
посторонних. Жалуется богу на командира, что тот ему зря фитиль вставил за
беспорядок на вельботе, - и попутно как рванет командирскую бабушку в
тридцать три света, в иже херувимы, в загробные рыданья и пресвятую деву
Марию, и вслед за тем - молитву о смягчении сердца власть имущих, поминая
царя Давида и всю кротость его.
Ну, конечно, господу богу обращаться ко мне, как к комиссару корабля, с
претензиями на второго помощника было неудобно, и от него я жалоб не слышал.
А вот от комсомольцев мне за Помпея порядком приходилось. Особенно горячился
комсомольский отсекр Саша Грибов. Это был год первого комсомольского набора
на флот, и почти все ученики машинной школы, что у нас на корабле плавали,
недавно еще были комсомольскими работниками не ниже уездного масштаба, а
Помпеи их благословляет с утра до вечера. Конечно, обидно. На собраниях
шумят, ставят вопрос о списании Помпея с корабля как пережитка, словом, что
ни день, то к командиру - рапорт, а к комиссару - постановление
комсомольского бюро. Я Грибову объясняю:
- Товарищ дорогой, у нас военный флот, а не губернская конференция,
пора уж, в самом деле, привыкать. Вы бы лучше, чем шум подымать, помогли бы
мне - провели бы со своей стороны воспитательную работу над стариком. Народ
вы молодой, флота не знаете, учить вас морскому делу надо. А где мы другого
такого специалиста по шлюпкам, парусам, тросам и прочим премудростям найдем?
В учебниках не все написано, а в нем двадцатилетний опыт. Кто вас так научит
узлы вязать, краску составлять, фигурные маты плести?
- Да вот о матах-то я и толкую, - говорит Грибов, - он, товарищ
комиссар, не плести маты нас учит, а загибать их. Вы послушайте, как наши
комсомольцы в быту стали говорить: через два слова в треть - загиб. Думают,
это настоящий флотский шик и есть, а как их разубедишь, когда живой пример
перед глазами, тем более комсостав?
Ну, я вижу, вопрос перерастает в политическую плоскость - Помпеи и
впрямь у меня молодое пополнение портит. А на комсомольцев в те годы с
разных сторон влияли: жоржики, которых с флота еще не всех повыкидали,
татуировочку насаждают, блатной лиговский язык прививают, якобы флотский.
Иной раз слушаешь - передовой комсомолец, недавно еще где-либо у себя в
Калуге новый быт насаждал, - а тут из-под бескозырки чуб выпустит, клеш в
семьдесят два сантиметра закатит и говорит примерно так: "Чьто ж, братва,
супешнику счас навернем, с коробочки потопаем, прокинем нынче по Невскому,
бабца какого наколем - и закройсь в доску до понедельника". Я раз их собрал,
высмеял, а о "коробке" специально сказал. "Вы, - говорю, - на этом корабле в
бой за Советскую власть пойдете, на корабле живете, учитесь, а нужно - и
умирать будете, а вы такое гордое слово - корабль - в "коробку" унизили". И
рассказал им попутно, как русские матросы в старое время и в гражданской
войне кораблем своим гордились и сами с ним на дно шли, как в Новороссийске
над этими "коробками" тяжелыми мужскими слезами плакали, когда их топить
пришлось... Ну, дошло это до комсомольского сердца, и слово "коробка" у нас
действительно исчезло, а прочий лиговский язык никакой борьбы не выдерживал.
А тут еще Помпеи мат культивирует, борьба на два фронта получается...
Вызвал я его к себе в каюту, посадил в кресло и начал проводить
политработу:
- Так и так, Помпеи Ефимович, грубая брань унижает не того, в кого она
направлена, а того, кто ее произносит. Это, - говорю, - в царском флоте было
развито как неуважение к личности трудящегося, а в наших условиях на
матерщинника смотрят как на некультурный элемент. Словом, чтобы не
действовать административно, я вам не предлагаю в порядке приказа изжить
матерную брань, а говорю по-хорошему: будьте сознательны, бросьте это дело.
Говорю, а сам вижу - слова мои в него, как в стенку, ни до души, ни до
сознания не доходят: сидит мой Помпеи, красный, потный, видимо, мучается, да
и побаивается - для него комиссар страшнее командира. Нет, думаю, не тот у
меня подход, надо эти лозунги бросить. Я на другой галс лег - объясняю
попросту, задушевным тоном: молодежь, мол, теперь иная, это не серые
новобранцы с деревни, а комсомольцы, у каждого своя гордость, и им обидно.
Это нам с вами, говорю, старым морякам, как с гуся вода, - покроют, - и не
встряхнешься. А им внове, надо же понимать.
Слушал, слушал Помпеи Ефимович, потом на меня глазки поднял, - а они у
него такие маленькие были, быстрые и с большой хитринкой.
- Так, товарищ же комиссар, они приобыквут! Многие уже теперь понимают,
что я не в обиду и что никакого неуважения их личности не выказываю.
Наоборот, иной сам чувствует, что это ему в поощрение или в пояснение. И
работать веселей, а то все швабры да щетки, чистоль да тросы изо дня в день
- прискучает. Опять же, скажем, терминология: эти самые ваши комсомольцы по
ночам морскими терминами бредят, комингсы им разные снятся да штаг-корнаки.
А я каждому предмету название переиначу позабавнее или рифму подберу, вот
оно легче и запоминается.
- Вот вы, - говорю, - и напереиначили так, что теперь в кубрик не
войдешь: сплошные рифмы висят - и речи человеческой не слышно.
А он на меня опять с хитринкой смотрит:
- Так что ж, товарищ комиссар, на корабле дамского общества, слава
богу, нет, самый морской разговор получается, и беды я в том не вижу. Ну,
если б я, скажем, дрался или там цепкой по спине протягивал, как царские
боцмана себе позволяли, тогда ваши возражения были бы понятны. А тут - чего
же особенного?
- Ну, - говорю, - Помпеи Ефимович, уж коли бы вы еще допускали зубы,
чистить, тогда у нас и разговор с вами был бы иной. Мы бы с вами не в каюте,
а в трибунале договорились.
А он смутился и сейчас же отбой:
- Да нет, знаете, я этой привычки и в царском флоте не одобрял, и
теперь не сочувствую. Потому что она увечье дает, кроме того, действительно
обидна для человека, потому что старшему в чине сдачи не дашь. А главное -
никакой от нее пользы для дела, и не всегда дотянешься... Хотя, впрочем, раз
довелось мне видеть, что и такая привычка обернулась во спасение жизни
человеку.
Ну, я примечаю, что у Помпея случай на языке чешется. Я и придрался,
чтоб дать ему разговориться и свободнее себя со мной чувствовать, потому что
дело такое, что официальным подходом не разрешишь, а он сидит на кончике
стула, стесняется, и душевного разговора в такой обстановке не добьешься.
- Как же, - говорю, - так в спасение жизни? Это странно... Может,
поделитесь? Я до подобных историй очень большой охотник. Сейчас я чайку
налажу, вот за чайком и расскажете.
- Нет, - говорит, - спасибо, чайку я вашего не буду. Я знаю - у вас не
чай, а верблюжья моча... то есть я хотел выразиться, что жидкий... Я чай
привык своего настою пить. А вот за папироской расскажу.
Закурили мы, он и рассказывает:
"Я тогда без малого пешком под стол ходил. Плавал в Белом море на такой
посудине, называется "Мария Магдалина". Рейс незавидный: по весне поморов на
промысла развозить, а по осени обратно их в жилые места собирать. Вот
осенние рейсы и мучили, беспокойно очень: у них привычка была - как
напьются, так в спор. Ножи там или топорики - это у них отбиралось, но,
бывало, и кулаком вышибали дух. Это тоже из терпения выводило: на каждого
покойника акт надо и в трех экземплярах. А писал акты первый помощник, очень
не любил писать, непривычное дело.
На них одна управа была - кран. Это капитан придумал, точное средство
было: как драка, так обоих ухватить, животом на лямки, которые лошадей
грузят, - и на краны поднять. У нас два таких крана было, аккурат у мостика.
Болтаются оба, покручивает их, раскачивает, и самолюбием страдают, потому
остальные на них ржут: очень смешные рожи корчили. А на втором часе скучать
начинали. Говорят, печенку выдавливает и в голове кружение. Повернет его
лицом к мостику, - "смилуйтесь, - кричит, - ваше степенство, ни в жисть не
позволю ничего такого!" А капитан твердый был, Игнат Саввич звали. "Виси, -
говорит, - сукин кот, пока всю мечту из головы не выкинешь". Очень они этого
крана боялись.
Вот идем мы как-то, стою я на штурвале и смотрю на бак. А там у двоих
спор вышел, о чем - это не поймешь: они, может, еще в мае месяце спорить
начали. Стоят, плечиками друг в друга уперлись и спорят. "Не веришь,
окаянная душа?" - "Не верю, - говорит, - не бывает такой рыбы". - "Не
веришь?" - "Не верю". - "А по зубам съезжу, поверишь?" - "Все одно не
поверю". Размахнулся тот и ударил. Удивительно мне показалось - такой
ледащий поморишка, а сила какая, значит, правота в нем от самой души
поднялась, - тот так и покатился. Поднялся, утер кровь. "Обратно, - говорит,
- не верю: нет такой рыбы и не могло быть".
Тут капитан им пальчиком погрозил: "Эй, - говорит, - такие-сякие,
поаккуратнее там! Будете у меня на кранах болтаться, как сыры голландские!"
Притихли они, главный спорщик шапку скинул. "Не утруждайтесь, - говорит, -
ваше степенство, это у нас просто разговор промеж себя, а безобразия мы
никакого не позволим". Вижу, замирились будто, еще по стаканчику налили, а я
на воду глаза отвел, вода - что масло, штиль был. Потом слышу - обратно на
баке шум. Стоят эти двое у самого борта, и ледащий опять наседает: "Не
веришь, - говорит, - так тебя распротак?" - "Не верю". - "Хочешь, в воду
прыгну?" - "Да прыгай, - говорит, - все одно не поверю". Не успел Игнат
Саввич матроса кликнуть, как тот на планшир вскочил, и в лице прямо
исступление. "Я, - кричит, - за свои слова жизни решусь! Говори, подлец, в
остатний раз спрашиваю: не веришь?" - "Не, не верю". - "Так на ж тебе, сукин
сын!" - и прыг в воду. А тот перегнулся за борт и кричит: "Все одно не
поверю, хоть тони; нет такой рыбы и не могло быть!"
Ну, пока пароход останавливали, пока шлюпку спускали, Игнат Саввич ему
разными словами дух поддерживал. Но так неудачно с ним получилось, даже
обидно: уши в воде были, не слыхал ничего, видимо. Очень он неловко в воде
был: руки, ноги свесил в воду, и голову тоже, а по-над водой один зад
маячит. Жиру у него в этом месте больше было или просто голова перевесила,
это уж я не скажу, но так и плавал задом наружу, пока шлюпка не подгребла.
Так за зад и вытащили. Подняли его на борт - не дышит, а из норок с носу
вода идет.
Потолковали мы между собой. Качать, говорят, надо, много ли он в воде
был - минут десять всего. Сперва наши матросы качали. Качали, качали и
плюнули. "Кончился, - говорят, - да и не наше вовсе дело пассажиров
откачивать". Тогда поморы взялись. Пошла из него вода пополам со спиртом, но
на ощупь все же недвижимое имущество.
Игнат Саввич сошел с мостика, веки приоткрыл, сердце послушал. "Акт, -
говорит, - составить, вовсе помер, будь он неладен", - и послал меня за
помощником. А тот спал, и так обидно ему показалось, что снова акт, что он в
меня сапогом пустил. Однако вышел, пришел на бак, сам злой до того, что
серый весь стал. Осмотрели карманы, - а известно, что в поморских карманах?
Дрянь всякая, кисет да трубка, крючок там какой-то да деньги в портянке, а
документа вовсе нет. Подумал помощник. "Подымите, - говорит, - его в стоячку
да под локотки поддерживайте, опознавать будем. Подходи по одному!" Стали
пассажиры подходить, помощник каждого спрашивает: "Как ему по фамилии?"
Почешется, почешется помор: "Кто его знает? Божий человек. Нам ни к чему".
Который с ним спорился - того спросили. Трясется весь, говорит: "А пес его
знает. Упористый был покойничек, это верно. А по фамилии не знаю".
Помощник как туча стал. И так это ему обидно показалось - и разбудили,
и акт в трех экземплярах, и по фамилии неизвестно. Смотрел, смотрел на
утопленника - и лицом даже покривился. "Бога, - говорит, - в тебе нет, сукин
ты сын. Ну, откуда я твое фамилие-имя-отчество рожу?" - да с последним
словом от всей своей обиды как двинет утопленника в скулу - так два зуба
враз и вылетели. А с зубами вместе, обратите внимание, и остатняя вода, что
в горле стояла и дышать мешала. Открыл покойник глаза и пошатнулся. Дошел до
своего мешка, приткнулся головой и уснул. Видимо, утомился очень. После
помощник ему весь свой спирт даром отдал, очень обрадовался, что тот его от
акта выручил.
Но это только раз за всю мою жизнь я и видел, чтоб от битья польза
была. А от соленых слов, наоборот, никогда вреда не бывает".
Посмеялся я над его рассказом, сам ему тоже для установления отношений
кой-какую историйку рассказал, - вижу, перестал Помпеи меня бояться. Я опять
его по душам убеждаю: так и сяк, ликвидируйте вы эту свою привычку, вам на
корабле и цены не будет. Бросают же люди курить - и ничего.
А он на меня опять с хитринкой смотрит и говорит:
- Это смотря сколько той привычке лет. Мне, товарищ комиссар, пятый
десяток идет, это не жук плюнул. Были мы в девятьсот двенадцатом в Бомбее,
так там, как из порта выйти - налево, у ихнего храма, факир на столбу стоял
и не присаживался, а продовольствовался чашкой риса в день. Англичане
косились, косились, - сняли со столба, положили в койку на самолучших
пружинах и обедом накормили. Заскучал факир и погас, как свечка. А всего
пять лет стоял, пять лет привычки имел. А я двадцать лет привычку имею,
легко не отвыкнешь. Вы мне лучше определите срок, я чего-нибудь сам
придумаю. И притом вопрос: как это - совсем отвыкать или только от
полупочтенных слов? Скажем, безобидные присловья допускаются?
- Отвыкайте, - говорю, - лучше сразу совсем. А безобидные пусть у вас в
резерве будут, когда вас прорвет, тогда их и пускайте.
Договорились. И началась новая эпоха: и точно, нормальной, скажем,
брани больше от Помпея Ефимовича никто не слышит. Но как-то так он сумел и
обыкновенные слова поворачивать, что слушаешь его - в отдельности будто все
слова пристойные, каждое печатать можно, - а в целом и по смыслу - сплошная
матерщина. Меня даже любопытство взяло. Постоял я раз на одном аврале -
шлюпки подымали, - послушал внимательно и понял его приемчик. Он весь этот
свой синтаксис - в тридцать три света, да в мутный глаз, да в Сибирь на
каторгу, в печенку, в селезенку - в речи оставил, и хоть прямых
непечатностей нет, но до того прозрачный смысл получается, хоть святых вон
выноси. Да вслушиваюсь, - он еще какие-то иностранные слова вставляет, так и
пестрит все ими. После я дознался: оказывается, он два вечера к старшему
врачу ходил, все полупочтенные слова у него по-латыни раздобыл, на бумажку
списал - и без запинки ими пользуется. Комсомольцы прямо вой подняли. "Что
же, - говорят, - товарищ комиссар, еще хуже стало! Раньше, бывало, поймешь,
хоть фыркнешь, а теперь покроет по-латыни - и вовсе не разберешь, что к
чему!.."
Тут я рассердился, зову его опять в каюту и очень строго ему говорю:
- Вы, - говорю, - меня обманули, иначе говоря, взяли на пушку. Чтоб
никаких слов - латинских ли, французских ли - я более от вас не слыхал,
понятно? И объясните вы мне, за-ради бога, Помпеи Ефимович: балуетесь ли вы
из упрямства, или в самом деле такая в вас устойчивая идеология, будто на
корабле без матерей не обойтись, хотя бы и иностранного происхождения?
Вздохнул Помпеи Ефимович, смотрит на меня с отвагой отчаяния:
- По правде говорить, товарищ комиссар?
- Конечно, по правде, мы оба не маленькие.
- Ну, коли по правде, то идеология. И поскольку вы ставите вопрос не на
принципиальное ребро, а по совести, позвольте с вами говорить не как с
комиссаром корабля, а как с балтийским матросом. Тем более, вы какого года
призыва?
- Девятьсот двенадцатого, - говорю.
- Ну вот. А я - девятисотого и в двенадцатом году уже четвертую
кампанию в боцманах ходил, так что вы передо мной вроде, извините, как
салажонок. Но раз вы все-таки настоящую флотскую службу захватили, то вполне
должны понимать, что с морем без соленого слова никак не выйдет. Оно его
любит, море-то. Раз человек лается, значит, у него в душе еще отвага и он
непреклонен. Вот, скажем, на шлюпке идешь, два рифа взял, а волна... (тут он
сказал, какая волна) - словом, упаси бог. Прикроет она шлюпку,
сидишь-сидишь, и дыхание испортилось, а вода все на тебе одеялом. Послабже
человек или кто с новобранства не обучен - тот взмолится. Ну и пропал. А как
загнешь в три переверта с гаком из последнего дыхания - изо рта пузыри
пойдут, а в каждом пузырьке соленое слово. В самую его мокрую душу угадаешь,
моря-то. А душа у моря хмурая, серьезная - ее развеселить надо... Волна и
отступит - значит, мол, жив еще человек, коль так лается.
- Ну, - отвечаю, - Помпеи Ефимович, это какая-то мистика или
художественный образ. Вы же кроете не стихию, а нормальных живых людей! А у
них своя психика.
- Могу и насчет людей пояснить. Вот, скажем, увидишь, как настоящий
марсофлот в шторм за бортом конец ловит, того и гляди, сорвется - как тут в
восхищение не прийти? От восхищения и загнешь, и тому за бортом лестно:
значит, от души его смелость оценили. Или, скажем, бодрость духа. Ее соленые
слова, знаете, на какую высоту подымают? Вот упал человек за борт, ошалел,
пока шлюпка дойдет, у него все гайки отдадутся. А пошлешь ему с борта
что-нибудь необычное да повеселее, смотришь, и спас человека: поверху
плавает и сам ругается для бодрости. Или на скучной работе: дерет, дерет
человек кирпичом палубу, опротивело ему, думает - скорей бы второй помощник
пробежал, может, отчудит чего посмешнее. А я тут как тут - там подбодришь
кого, тут кого высмеешь, здесь этак с ходу веселое словечко кинешь, -
обежишь корабль, вернешься, а они прямо искры из настила кирпичом высекают,
крутят головами и посмеиваются. Или растерялся матрос, не за то хватается,
того гляди, ему пальцы в канифас-блок втянет, - чем его в чувство привести?
Опять-таки посторонним воздействием. Очень много могу привести вам примеров,
когда плотный загиб пользу приносит. Только во всех этих случаях, обратите
внимание, обычная брань не поможет. Я и сам против тех, кто три слова
сызмальства заладил и так ими и орудует до седых волос. Слова и соленые
приедаются, а действовать на психику надо неожиданностью и новизной оборота.
Для этого же надо в себе эту способность развивать постоянной тренировкой и
другим это искусство передавать.
Выслушал я его и резюмирую:
- Да, это развернутая идеология. Целая теория у вас получается. Только
она, - говорю, - для Красного флота никак не подходит.
А он уже серьезно и даже с печалью говорит:
- Я и сам вижу, что не подходит. И потому прошу вас ходатайствовать
перед высшим командованием Об увольнении меня в бессрочный отпуск... Вы же
мне все пути отрезаете и даже не допускаете замены безобидным присловьем
или, скажем, иностранного происхождения. Мне это крайне тяжело, потому что с
флотом я за двадцать лет свыкся и на берегу буду болтаться, как бревно в
проруби, без всякого применения. Но решать, видимо, следует именно так.
У меня прямо сердце переворачивается. Вижу, Помпеи наш в самом деле
ничего С собой сделать не может, раз решается сам об увольнении просить. А
отпускать его страсть не хочется. Ах ты, думаю, будь оно неладно! И лишаться
такого марсофлота прямо преступно для новых кадров, и оставить нельзя - куда
же его, к черту, с такой идеологией? А он продолжает:
- Главное дело, я чувствую, что, коли б не это наше расхождение мнений,
от меня флоту большая польза была бы. Я тут среди ваших комсомольцев
присмотрел людей вполне подходящих, дали б мне волю, я бы из них настоящих
матросов сделал, только своим, конечно, способом. Но раз Советская власть
такого разговора на палубе не одобряет, я прямо тебе скажу, Василий Лукич,
как матрос матросу: против Советской власти я не пойду. Вот и приходится
корабль бросать.
Вдруг меня будто осенило.
- Это, - говорю, - ты правильно сказал: Советская власть такого
разговору не одобряет. И я вот тебе тоже как матрос матросу признаюсь: я
ведь - что греха таить? - сам люблю этажей семь построить при случае. Но
приходится сдерживаться. Стоишь, смотришь на какой-либо кабак, а самого так
и подмывает пустить в господа бога и весь царствующий дом, вдоль и поперек с
присвистом через семь гробов в центр мирового равновесия...
Конечно, сказал я тогда не так, как вам передаю, а несколько
покрасочнее, но все же вполсилы. Пустил такое заклятье, вроде как
пристрелочный залп, - эге, вижу, кажется, с первого залпа у меня накрытие:
подтянулся мой Помпей, уши навострил, и в глазах уважение:
- Плотно, Василий Лукич, выражаешься, приятно слушать.
Так, думаю, правильный подход нащупал. А сам рукой махнул и огорчение
изображаю:
- Ну, мол, это пустяк. Вот в гражданской я действительно мог: бывало,
как зальюсь - восемь минут и ни одного повтора. Ребята заслушивались. А
теперь практики нет, про себя приговариваешь, а в воздух слов не выпускаешь.
Помпеи на меня недоверчиво так посмотрел:
- Заливаешь, Василий Лукич, хоть и старый матрос. Восемь минут! У нас
на "Богатыре" на что боцман ругатель был, а и то на шестой минуте
повторяться начинал.
- Нет, - говорю, - восемь. Не веришь? - Не верю.
- Не веришь?
- Нет, - мотает головой. - Я свое время не считал, но так полагаю, что
и мне восьми минут не вытянуть.
- Ну, - говорю, - восьми, может, и я сейчас не вытяну, отвык без
практики, но тебя все-таки перекрою.
Смеется Помпеи, а мне только того и надо.
- Не срамись, - говорит, - лучше, Василий Лукич! Вот с "Богатыря"
боцман меня бы перекрыл, а боле никого я на флотах не вижу.
- Ах, так, - говорю и вынимаю из кителя часы. - Давай спориться!
Только, чур, об заклад: коли ты меня перекроешь, дозволю тебе в полный голос
по палубе разговаривать. А я перекрою - тогда уж извини: чтоб никаких слов
никто от тебя боле не слышал: ни я, ни военморы, ни вольнонаемные.
Он на меня смотрит и, видимо, не верит:
- Ты что, комиссар, всерьез?
А я китель расстегнул, кулаком по столу ударил, делаю вид, что страшно
разгорячился.
- Какие могут быть шутки! Ты мне самолюбие задел, а я человек горячий.
Принимаешь заклад или боишься?
- Я боюсь?.. Принимаю заклад! Посмотрим!
Хлопнули мы по рукам, стали договариваться. Он выставил вопрос о судье
- кого позвать - и предложил старшего помощника: он, говорит, хоть нынче
остерегается по тем же обстоятельствам, но разбирается в этом деле вполне. Я
судье отвод - неловко, мол, мне, как комиссару, такие арии перед
комсоставом, и какой вопрос может быть о судье, если два балтийских матроса
на совесть спорятся?
Тогда с его стороны еще затруднение:
- Неправильно получается: как же так, с бухты-барахты? Кого же крыть и
по какой причине? Сам понимаешь, для этого дела надо ведь в запал прийти.
- Меня, - говорю, - крой, что я тебе жизнь порчу. А я послушаю,
наверное, сам с того обозлюсь. Начали, что ли?
- Пускай, - говорит, - секундомер с первым залпом!
Поправился в кресле - и дал первый залп.
Ну, я прислушиваюсь. Все в порядочке: начал он, как положено, с
большого загиба Петра Великого, все боцмана так начинали. Потом на мою родню
навалился. Всех перебрал до седьмого колена, про каждую прабабку
характеристику сказал, и все новое, и на другой галс повернул, - меня самого
в работу взял, а я вижу - одна тактическая ошибка у него есть. Третья минута
пошла, а он все мной занимается: и рында-буленем, и фор-брамстеньгой, и в
разные узлы меня завязывает, и каждой моей косточке присловье нашел, и все в
рифму - заслушаешься. Отработал он этот участок - на небеса перекинулся,
стал господа бога и приснодеву Марию тревожить, как будто и не он это на
коленках перед стулом стоит. Кроет в двенадцать апостолов, в сорок
мучеников, во всех святых, - а я опять на карандаш беру: еще одну
тактическую ошибку мой Помпеи допустил, вижу - у меня фору добрая минута
будет. Потом вновь на землю спустился, начал чины перебирать, от боцманмата
до генерал-адмирала и управляющего морским министерством. Словом, шестая
минута пошла, и он, вижу, начинает ход сбавлять, вот-вот заштилеет.
Посматривает на часы и пальцем тычет - сколько, мол, там?
- Шесть, - говорю, - крой дальше, Помпеи Ефимович.
Тут он опять ветер забрал, понесся: новую жилу нашел - все звериное
царство на моих родственников напустил: и медведей, и верблюдов, и крыс, и
перепончатых стрекоз. Этого ему еще на минуту хватило, но, вижу, в глазах у
него растерянность, и рифм уже меньше, и неожиданностей не хватает. Потом
слышу - опять митрополита санктпетербургского и ладожского помянул.
- Стоп, - говорю и секундомер нажал. - Было уже про митрополита.
Он осекся, замолк, дух переводит, на меня смотрит.
- Было, - говорю, - было, Помпеи Ефимович. Ты его еще с динамитом
срифмовал и обер-церемониймейстером переложил, верно?
- Правильно, - сознается, - было. Сколько там вышло?
- Восемь минут семнадцать секунд. Перекрыл ты богатырского боцмана.
Ну-ка, я рюриковскую честь поддержу. Бери часы.
Ну, набрал я воздуху в грудь и начал.
Если б вам все это повторить, многих из вас тут же бы до жвакагалса
стравило. Потому что я все свои знания в этой области мобилизовал и все силы
напряг, ибо ставка была уж очень большая: нужный для флота человек.
Прошел я по традиции и для времени петровский загиб, нажимаю дальше, аж
весла гнутся, а на ходу все его тактические ошибки в свою пользу учитываю.
Одна, что он двенадцать апостолов в кучу свалил, - а я каждого по
отдельности к делу приспособил. Также и сорок мучеников, кого сумел
припомнить, в розницу обработал. А у них имена звучные, длинные - как
завернешь в присноблаженного и непорочного святого Августина или в святых
отец наших Сергия и Германа, валаамских чудотворцев - глядишь, пять секунд
на каждом и натянешь. Друга
Но он еще мог развить полный ход и поддерживать огонь...
We're last children of the sea.




Ulysses> Леонид Соболев
Ulysses> Рассказы капитана 2-го ранга В.Л.Кирдяги
Вот такой ссылки - больше чем достаточно. Соболева все читали. Зачем еще одно издание?
Ulysses> Рассказы капитана 2-го ранга В.Л.Кирдяги
Вот такой ссылки - больше чем достаточно. Соболева все читали. Зачем еще одно издание?
Когда у нас появятся работники, которым достаточно просто заплатить?




M.Gotovchitz> Вот такой ссылки - больше чем достаточно. Соболева все читали. Зачем еще одно издание?
Да уж..!Ссылочка,так ссылочка.А самое смешное ,что три-четыре дня назад я вспоминал этот эпизод с "колоратурой".Вот только по какому поводу не могу вспомнить....
Да уж..!Ссылочка,так ссылочка.А самое смешное ,что три-четыре дня назад я вспоминал этот эпизод с "колоратурой".Вот только по какому поводу не могу вспомнить....
В бизнес можно идти с кем угодно,а в плавание только с джентльменом.
/Дж.П.Морган/




VVV> Извиняюсь,но очень много букв,ну очень.:)
В море "ТАКОГО" много не бывает.Прочитал и как то закачало и соленым ветром подуло. Я лет несколько к подобным изречениям не прикосался.А прошлым летом рано утром -часов в пять-(на соседнем участке дом строят бревенчатый вуйки с полонины) запела бензопила.Пришлось встать и выйти "побеседовать".Сначала хотел не трогать,а только чуток усовестить.А они мне стали вякать,что днем,дескать,жарко очень и они хоте ли бы по холодку погреметь.У меня так пацаны по 20 лет не ныли когда я их в тропиках на мачту по несколко раз на день гонял,а тут здоровые мужики.Так я им тоже немножко рассказал за жизнь,за море.В общем загнал свайку по самое небалуйся и провернул.Потом вернулся в кровать под бочек жене и уснул.И было таааак тихо.До семи тридцати.На это время я им для себя подьем заказал.
С тех пор всегда первые издалека здороваются,чего ранее не наблюдалось.А я опять тхий и незаметный....
В море "ТАКОГО" много не бывает.Прочитал и как то закачало и соленым ветром подуло. Я лет несколько к подобным изречениям не прикосался.А прошлым летом рано утром -часов в пять-(на соседнем участке дом строят бревенчатый вуйки с полонины) запела бензопила.Пришлось встать и выйти "побеседовать".Сначала хотел не трогать,а только чуток усовестить.А они мне стали вякать,что днем,дескать,жарко очень и они хоте ли бы по холодку погреметь.У меня так пацаны по 20 лет не ныли когда я их в тропиках на мачту по несколко раз на день гонял,а тут здоровые мужики.Так я им тоже немножко рассказал за жизнь,за море.В общем загнал свайку по самое небалуйся и провернул.Потом вернулся в кровать под бочек жене и уснул.И было таааак тихо.До семи тридцати.На это время я им для себя подьем заказал.
С тех пор всегда первые издалека здороваются,чего ранее не наблюдалось.А я опять тхий и незаметный....


kontrbizan> С тех пор всегда первые издалека здороваются,чего ранее не наблюдалось.А я опять тхий и незаметный....
Алексей, не знаю есть это или нет, но вот ссылка: человек вроде заканчивает графику по шлюпу Надежда. связывайся-может поможет тебе.
Navarin.Ru : Частный Военно-Исторический Архив : Шлюп Надежда
Алексей, не знаю есть это или нет, но вот ссылка: человек вроде заканчивает графику по шлюпу Надежда. связывайся-может поможет тебе.
Navarin.Ru : Частный Военно-Исторический Архив : Шлюп Надежда
В один ненастный день, в тоске нечеловечьей,
Не вынеся тягот, под скрежет якорей,
Мы всходим на корабль, и происходит встреча
Безмерности мечты с предельностью морей.

Не вынеся тягот, под скрежет якорей,
Мы всходим на корабль, и происходит встреча
Безмерности мечты с предельностью морей.


kotbayun> Алексей, не знаю есть это или нет, но вот ссылка: человек вроде заканчивает графику по шлюпу Надежда. связывайся-может поможет тебе.
kotbayun> Navarin.Ru : Частный Военно-Исторический Архив : Шлюп Надежда
Понял-принял.Проанализирую-отчитаюсь.Сенькаю вери мач.:))
kotbayun> Navarin.Ru : Частный Военно-Исторический Архив : Шлюп Надежда
Понял-принял.Проанализирую-отчитаюсь.Сенькаю вери мач.:))


kontrbizan> Понял-принял.Проанализирую-отчитаюсь.Сенькаю вери мач.:))
You are welcome, sincerely your.
You are welcome, sincerely your.

В один ненастный день, в тоске нечеловечьей,
Не вынеся тягот, под скрежет якорей,
Мы всходим на корабль, и происходит встреча
Безмерности мечты с предельностью морей.

Не вынеся тягот, под скрежет якорей,
Мы всходим на корабль, и происходит встреча
Безмерности мечты с предельностью морей.


kotbayun> Алексей, не знаю есть это или нет, но вот ссылка: человек вроде заканчивает графику по шлюпу Надежда. связывайся-может поможет тебе.
kotbayun> Navarin.Ru : Частный Военно-Исторический Архив : Шлюп Надежда
Пока прочитал первую страницу обсуждения.Не знаю как дальше там обстоит дело,но народ хоть и от паруса,но яхтсмены по сути,а не толлшип.В общем рубятся за то чего сами в живую не видели.Все на теориях и догадках.А по сути-есть чертежи начального варианта"Надежды",а им этого мало-подавай все вариации модернизации.Это все равно,что сейчас сфотографировать "Палладу" с половиной фокмачты и через 200 лет разгорятся дебаты как делать-с полной мачтой или пополам сломаной.Может они хорошие ребята,но ...поживем-увидим
kotbayun> Navarin.Ru : Частный Военно-Исторический Архив : Шлюп Надежда
Пока прочитал первую страницу обсуждения.Не знаю как дальше там обстоит дело,но народ хоть и от паруса,но яхтсмены по сути,а не толлшип.В общем рубятся за то чего сами в живую не видели.Все на теориях и догадках.А по сути-есть чертежи начального варианта"Надежды",а им этого мало-подавай все вариации модернизации.Это все равно,что сейчас сфотографировать "Палладу" с половиной фокмачты и через 200 лет разгорятся дебаты как делать-с полной мачтой или пополам сломаной.Может они хорошие ребята,но ...поживем-увидим


kontrbizan> народ хоть и от паруса,но яхтсмены по сути,а рубятся за то чего сами в живую не видели.Все на теориях и догадках.Это все равно,что сейчас сфотографировать "Палладу" с половиной фокмачты и через 200 лет разгорятся дебаты как делать-с полной мачтой или пополам сломаной.Может они хорошие ребята,но ...поживем-увидим
Однажды Аркадий Райкин, в одном из своих монологов, сказал- "...В спорах рождаются дети." Фраза вырвана из контекста...Но общую "атмосферу дЭбатов на форумах" ты уловил правильно. С чем и поздравляю
Однажды Аркадий Райкин, в одном из своих монологов, сказал- "...В спорах рождаются дети." Фраза вырвана из контекста...Но общую "атмосферу дЭбатов на форумах" ты уловил правильно. С чем и поздравляю

В один ненастный день, в тоске нечеловечьей,
Не вынеся тягот, под скрежет якорей,
Мы всходим на корабль, и происходит встреча
Безмерности мечты с предельностью морей.

Не вынеся тягот, под скрежет якорей,
Мы всходим на корабль, и происходит встреча
Безмерности мечты с предельностью морей.


Temnikov> Главное процесс спора, родить не родить не столь важно. 
НУ да! А посвистеть?

НУ да! А посвистеть?
В один ненастный день, в тоске нечеловечьей,
Не вынеся тягот, под скрежет якорей,
Мы всходим на корабль, и происходит встреча
Безмерности мечты с предельностью морей.

Не вынеся тягот, под скрежет якорей,
Мы всходим на корабль, и происходит встреча
Безмерности мечты с предельностью морей.


 Реклама Google — средство выживания форумов :)
Реклама Google — средство выживания форумов :)
Copyright © Balancer 1997..2018
Создано 27.03.2009
Связь с владельцами и администрацией сайта: anonisimov@gmail.com, rwasp1957@yandex.ru и admin@balancer.ru.
Создано 27.03.2009
Связь с владельцами и администрацией сайта: anonisimov@gmail.com, rwasp1957@yandex.ru и admin@balancer.ru.
/60c9aa39a5b1t.jpg)
 kotbayun
kotbayun

 инфо
инфо инструменты
инструменты IBeRUS
IBeRUS

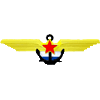



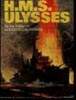


 boris2005
boris2005

 Temnikov
Temnikov

